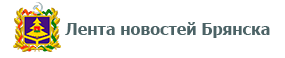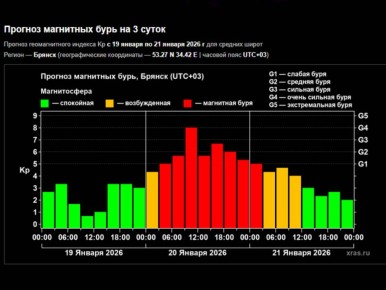Людей, переживших ужасы Великой Отечественной и сохранивших те годы в памяти, сейчас уже почти не найти. Игорь Борисович Москвин, один из величайших тренеров по фигурному катанию, подготовивший огромное количество выдающихся спортсменов, ушёл из жизни пять лет назад. Его воспоминания из книги Елены Вайцеховской «Лёд для двоих» мы публикуем сегодня — в день 80-летия Победы.
- Советские фигуристы Игорь Москвин и Майя Беленькая
«...Я родился в 1929-м в Бежице, сейчас это пригород Брянска. А через год мы всей семьёй переехали в Питер. В отдельную комнату большущей коммуналки с великолепной обстановкой. Одна только кухня там была площадью метров сорок — с огромной плитой посередине. Во главе той квартиры стояла её исконная хозяйка — Серафима Васильевна Альванг. Эта фамилия досталась ей от мужа. А сама она была по национальности то ли немкой, то ли еврейкой. Все соседи очень хорошо к ней относились, да и вообще были очень дружны. Вместе ставили ёлку на Новый год, вместе встречали его, отмечали другие праздники.
Отец работал в области холодной обработки стекла в Государственном оптическом институте имени академика Вавилова. Там было четыре или пять лабораторий, которые были образованы в 1937—1938 годах. Одной из лабораторий заведовал сам (Сергей Иванович. — RT) Вавилов, там же работали академики (Илья Васильевич. — RT) Гребенщиков, (Александр Николаевич. — RT) Теренин.
А потом началась война. Немцы-то наступали шустро. Поэтому в Ленинграде сразу стали думать о том, чтобы перевести подальше от линии фронта все промышленные предприятия. Нас сначала не хотели эвакуировать, но всё-таки вывезли за считаные дни до начала блокады. Нам, детям, помню, было интересно смотреть, как всё вокруг бомбят.
Также по теме «Правила — это не догма, тем более безграмотные правила»: скончался легендарный тренер по фигурному катанию Москвин На 92-м году ушёл из жизни выдающийся советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин. Трёхкратный чемпион СССР в...
«Правила — это не догма, тем более безграмотные правила»: скончался легендарный тренер по фигурному катанию Москвин На 92-м году ушёл из жизни выдающийся советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин. Трёхкратный чемпион СССР в... Бабушка оставалась в Брянске. И несмотря на то что к моменту начала войны у неё уже не было никакой связи с заводом, её вместе со всеми прочими сотрудниками тоже отправили в эвакуацию. В Красноярск.
Как они туда ехали — отдельный разговор. Поезд высадил людей прямо в поле, на каком-то полустанке, и там их встречала толпа местных жителей с машинами и стройматериалами, вплоть до столбов, чтобы соорудить временное жильё и провести электричество.
Было это летом, почти сразу после начала войны. Потом эвакуированных разместили в деревне Бадаевке, где жили очень зажиточные, правильные, исконные сибиряки. Настолько правильные, что хозяин дома, куда попала бабушка, сделал себе харакири перочинным ножом, когда кто-то обвинил его в воровстве. Причём не просто вскрыл себе внутренности, а резал себя до тех пор, пока не добрался до аорты.
Связь в стране тогда была только почтовая. Но работала хорошо. Уже после того, как в 1942-м от тифа умер отец, бабушка в попытках нас разыскать написала в Ленинград, и ей сообщили, что папин институт эвакуирован в Йошкар-Олу. И к осени 1943-го бабушка приехала к нам с мамой.
От папы с мамой в нашей семье осталось большое овальное зеркало. Мы брали это зеркало с собой в эвакуацию, потом привезли обратно. Когда-то, ещё в нашей старой квартире в Питере, перед этим зеркалом стояла Галина Вишневская. Моя бабушка по линии мамы была неплохой портнихой. Среди её заказчиц была женщина, которая в то время преподавала в ленинградской консерватории. Она к нам в дом Вишневскую и привела — чтобы создать ей какой-то сценический образ. А для этого её сначала следовало просто одеть как следует. Галина в те времена работала буфетчицей в Кронштадте, училась в консерватории и считалась подающей надежды. Я был совсем мальчишкой, и мне почему-то ужасно не нравилось, что какая-то девица приходит к нам в дом, вертится перед бабушкиным зеркалом. А сейчас, получается, гордиться знакомством можно.
До войны бабушка жила в Брянске. Именно там мой папа познакомился с моей мамой. Папа тогда учился в Технологическом институте в Ленинграде, а в Брянск приехал на практику — там был крупный машиностроительный завод. Директором этого завода был мой дедушка по линии папы. Он был высоких кровей, царскосельских. Дураков тогда на руководящие посты не ставили.
Из Красноярска бабушка забрала с собой к нам в эвакуацию самое ценное, что у неё было, — головку от ножной швейной машинки. Правда, эта головка не работала: перед эвакуацией бабушке посоветовали как следует смазать весь механизм подсолнечным маслом, чтобы головка не заржавела. От жары масло засохло, и все попытки починить головку в Красноярске оказались тщетными. Тем не менее бабушка её не выбросила и привезла в Йошкар-Олу.
Жили мы в каком-то общежитии. Тараканов там было... И один туалет на четыре этажа. Когда идёшь туда в темноте с лучинкой — под ногами жуткий хруст стоял. А посветишь получше — весь пол вокруг тебя шевелится чёрным.
Мне тогда было 14 лет, и я подумал: есть каустическая сода, которую нам давали для производства мыла. Если эта сода растворяет кости и шкуры, то засохшее растительное масло она ведь тоже должна растворить без проблем?
В общем, взял я здоровое ведро, насыпал туда каустика, развёл водой, опустил в ведро головку от бабушкиной машинки и поставил на ночь на плиту. Вонь была по всей комнате совершенно невыносимая. Но головку удалось после этой процедуры развинтить и почистить.
Ничего сложного, как выяснилось, в механизме не было. А поскольку в эвакуации я регулярно ходил в столярный кружок, который организовал кто-то из взрослых, чтобы занять мальчишек, то без труда соорудил ящик и вырезал из фанеры подставку. Правда, по ходу пришлось переоборудовать машинку из ножной в ручную. Кружок у нас был прямо в общежитии. Собирались мы то в одной в квартире, то в другой. Никто из жильцов не возражал — от наших занятий ведь оставалась деревянная стружка, которой можно было подтапливать печку.
Бабушка, получив исправную машинку, была счастлива. И сразу в городе прошёл слух, что она шьёт. Одной из её клиенток даже стала секретарь главного босса республики. Первым лицом по тем временам всегда был русский, а вот секретарей набирали из местных. Вот бабушка и стала ту местную барышню обшивать.
Также по теме «Послевоенное поколение было уникальным»: Древаль о триумфе в Мюнхене, драке с югославами и женитьбе на внучке Шолохова После Великой Отечественной войны в народе очень сильно чувствовался дух победителей. Об этом в интервью RT заявил ватерполист...
«Послевоенное поколение было уникальным»: Древаль о триумфе в Мюнхене, драке с югославами и женитьбе на внучке Шолохова После Великой Отечественной войны в народе очень сильно чувствовался дух победителей. Об этом в интервью RT заявил ватерполист... Денег тогда ни у кого не было, поэтому расплачивалась та женщина с бабушкой мёдом, селёдкой и салом. У её семьи имелось огромное собственное хозяйство с пасекой, в 100 километрах от него текла Волга, где ловили знаменитую волжскую селёдку. Я до сих пор помню тот мёд — тёмный, прозрачный, тягучий...
Но там, в Йошкар-Оле, я объелся мёдом, селёдкой и салом до такой степени, что потом долго не мог даже смотреть на эти продукты. Селёдку начал снова есть только во взрослом возрасте, когда стал выпивать.
Та бабушкина машинка долго была нашей главной кормилицей. В 1945-м, когда нас снова привезли в Ленинград, я пошёл на Ситный рынок и за какие-то копейки купил для машинки станину. Она была без верхней платы, но её я без проблем сделал сам.
Отца я хоронил сам — в Йошкар-Оле. Зимой 1942-го он ездил оттуда на месяц на фронт — проверял, как работают какие-то его приборы. Он ведь с оптикой работал, а это прицелы, системы наблюдения...
Вернулся папа с сыпным тифом, и через неделю его не стало. Потом перед нами извинялись. Выяснилось, что всех, кто ездил из эвакуации на фронт, были обязаны обеспечивать шёлковым бельём. Шёлк был единственной доступной тканью, на которой не держались вши — соскальзывали. А папу отправили на фронт без этого белья, потому что его поездка была организована в каком-то совсем экстренном порядке.
У папы было очень много родных. Точнее, у дедушки по папиной линии. Пять сыновей и две дочки. Причём все очень умные и образованные люди. Старший сын, дядя Сеня, был главным инженером государственного оптико-механического завода «Светлана». Потом этот завод назывался ЛОМО, ГОМЗ производил всю оптику для страны. Государственный оптический институт её разрабатывал, а ГОМЗ производил. Этот объект считался настолько стратегически важным, что к нему была даже подведена специальная железнодорожная ветка.
В 1936-м дядю Сеню отправили на годичную стажировку в Америку. Вернулся он оттуда на громадном — самом большом по тем временам — трансатлантическом корабле Queen Mary, который только-только спустили на воду. Ещё через год дядьку арестовали и отправили на поселение в Свердловск. Правда, в 1941-м туда же был эвакуирован ГОМЗ, так что дядя снова оказался при своей прежней работе.
А вот вся его семья погибла в Ленинграде: дом накрыло во время одной из первых бомбёжек Васильевского острова.
Второй брат — Андрей Москвин — стал известным кинооператором. Он всю жизнь был одиноким: ни жены, ни детей — весь в своём искусстве. Его я, правда, никогда не любил, потому что он никогда нам не помогал. Не помог даже тогда, когда мы вернулись из эвакуации. У нас ведь ничего не осталось, даже жилья.
Третий брат отца — дядя Гриша — во время войны был то ли главным конструктором, то ли главным инженером Кировского завода. Четвёртый — не помню даже его имени — застрелился совсем молодым из-за того, что умерла его жена. Он очень её любил и совершенно не представлял себе, как жить, после того как жены не стало.
Ещё у отца были две сестры — мои тётки. Старшая, Варя, работала патологоанатомом и умерла, отравившись трупным ядом: занесла его в ранку на руке во время какого-то вскрытия. А младшая — Елена — как-то исчезла из поля зрения всех родственников сразу после войны.
Когда мы с мамой и бабушкой вернулись в Питер, дядя Гриша искренне хотел нам помочь, но его супруга — очень жёсткая и властная женщина — сразу встала на дыбы. Мол, нахлебников им в доме не нужно. Моя мама тоже была человеком жёстким и принципиальным. Поэтому отношения с отцовскими родственниками были разорваны сразу и навсегда.
Вот и получилось, что от большой семьи никого как бы и не осталось.
Когда война закончилась, было тяжёлое время. Очень сильно подскочили цены. Помню, недалеко от нашего дома был магазин, в котором продавалась живая рыба. Плавала прямо там, в бассейне. Икра стояла в больших блюдах — одной только чёрной три сорта. Ещё была серая икра, паюсная. Селёдка, снетки — маленькие, кривые, но удивительно вкусные рыбёшки. Из них суп варили. А наиболее тяжёлыми годами были 1947-й и 1948-й. Продуктовые карточки уже отменили, так что денег на еду требовалось достаточно много. За обедом я съедал полкило хлеба, иначе оставался голодным.
Также по теме Ничто не должно и не может быть забыто: в Ташкенте прошла премьера фильма «Борзенко: ринг за колючей проволокой» В среду, 22 июня, в сети выходит документально-игровой фильм «Борзенко: ринг за колючей проволокой» о легендарном советском боксёре...
Ничто не должно и не может быть забыто: в Ташкенте прошла премьера фильма «Борзенко: ринг за колючей проволокой» В среду, 22 июня, в сети выходит документально-игровой фильм «Борзенко: ринг за колючей проволокой» о легендарном советском боксёре... Хотя в конце войны я получал немыслимые деньги — больше, чем по тем временам зарабатывали профессора и руководители лабораторий. Согласно Конституции, в 12 лет я уже имел право работать. Не более четырёх часов в день, правда. Так что трудовая книжка у меня с 1942 года — того самого момента, когда в эвакуации меня приняли на завод учеником слесаря.
В 1945-м, когда завод вернулся в Ленинград, получилось так, что вся лабораторная работа оптического института замкнулась на мне. Многие специалисты погибли или были ранены, а те, кто остался в живых, ещё не успели вернуться в город.
Специально для меня тогда из Казани вызвали специалиста, который владел какими-то уникальными секретами и приёмами стеклодувной профессии. Со мной он возился целую неделю. Ну а потом я уже совершенствовался сам.
Тогда был очень серьёзный подход к ручной работе. Да и требования были неимоверно высоки. Не думаю, что сейчас вообще можно найти специалиста, способного сделать то, что делали мы, мальчишки, на экзамене по мастерству в эвакуации. Например, одним из заданий, которые нам давал мастер, было за три часа вручную выточить кубик со стороной пять сантиметров, имея в распоряжении железную заготовку, напильник, тиски и измерительные инструменты. При этом погрешность в перпендикулярности всех шести сторон не должна была превышать 0,5 мм.
В этом отношении у меня очень хорошие руки. Хотя большого полёта фантазии нет. Мне свойственно концентрироваться на выполнении узкой, конкретной задачи.
Некоторые стеклодувные работы, которыми мне пришлось заниматься в Ленинграде, требовали довольно продолжительного времени. Иногда уходило двое суток: с точки зрения технологии было принципиально, чтобы стекло правильно и равномерно остывало. Я тогда долго думал, как и где можно сэкономить на каждом этапе, чтобы не пострадало качество изделия. В результате придумал, и весь технологический процесс стал укладываться не в два, а в полтора дня. Соответственно, и производительность стала гораздо выше.
Одновременно с этим нужно было ещё и учиться — оканчивать школу. Наша преподавательница немецкого языка Бэлла Юрьевна меня ненавидела. В эвакуации я на слух выучил язык, общаясь с пленными австрийцами, которые работали в нашем институте. Позже-то я понял, что это был не совсем немецкий язык в классическом его виде. Но в школе выпендривался, периодически позволяя себе при всём классе делать Бэлле Юрьевне замечания.
Первое полугодие 1945 года в школу я, правда, почти не ходил: было слишком много работы в оптическом институте. Иногда меня забирали на завод прямо с урока — присылали прямо к школьному крыльцу чёрную «Победу» с водителем. Так что в школе я считался очень важным человеком.
А в январе 1947-го я уже участвовал в своих первых соревнованиях...»